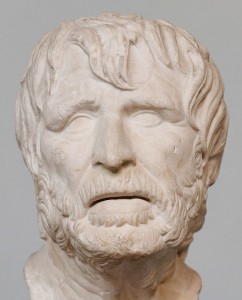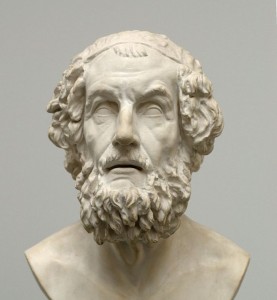Сделав такое ограничение, чтобы уже на этой предварительной стадии говорить только о прекрасном в искусстве, мы тотчас же встречаем новые трудности.
Во-первых, может явиться сомнение в том, достойно ли художественное творчество научного анализа. Правда, искусство и красота, как добрый гений, дают себя знать во всех наших жизненных начинаниях; украшая внешний и внутренний мир человека, они придают среде, в которой мы живем, более светлый и радостный характер. Искусство смягчает серьезность обстоятельств и сложный ход действительной жизни, оно разгоняет скуку наших праздных часов, и даже там, где не может быть ничего доброго, оно по крайней мере становится на место зла, а это ведь лучше, чем зло. Но если искусство с его привлекательными формами можно найти во всем — от грубого убора дикарей до великолепия богато украшенного храма, — то сами по себе эти формы остаются как бы за пределами подлинных конечных целей жизни. И хотя образы художника не мешают серьезности этих целей, а временами даже способствуют им, удерживая нас по крайней мере от дурного, нужно признать, что искусство имеет отношение к минутам внутреннего облегчения, расслабленности духа, тогда как субстанциальные интересы требуют, скорее, духовного напряжения. Попытка рассматривать со всей научной серьезностью то, что само по себе несерьезно, может показаться странным педантством.
С подобной точки зрения, если даже принять, что смягчение души, которое может возникнуть на почве интереса к прекрасному, не переходит в дурную изнеженность, искусство представляется каким-то излишеством. Отсюда не раз возникала потребность в защите художественного творчества от тех, кто считал его роскошью по отношению к практической необходимости вообще и особенно по отношению к морали и набожности. А так как доказать безвредность искусства с подобной точки зрения невозможно, то оставалось по крайней мере представить дело так, что выгоды, связанные с этой роскошью духа, превышают ущерб, приносимый ею.
Перед лицом этой проблемы самому искусству часто приписывали серьезные цели. Его старались представить в качестве посредника между разумом и чувственностью, между склонностью и долгом — как примирителя этих элементов, сталкивающихся друг с другом в суровой борьбе и взаимном противодействии. Но если даже принять, что искусство имеет более серьезные цели, разум и долг, пожалуй, ничего не выиграли бы от этой попытки найти посредствующее звено, ибо они по своей природе не терпят никакой примеси и не могли бы вступить в подобную сделку, требуя той же чистоты, которой они обладают в самих себе. И притом все это еще не сделало бы художественное творчество более достойным научного освещения. Здесь речь идет о двойной службе, в которой искусство наряду с более высокими целями может способствовать также праздным занятиям и фривольности, выступая во всем этом служении только как средство, а не как самоцель.
Что касается, наконец, самой формы этого средства, то она всегда представляется заключающей в себе некоторый изъян. Ибо если искусство действительно подчиняет себя более серьезным целям, а влияние его приводит к более серьезным результатам, то достигается это посредством обмана: ведь искусство живет в видимости. Но все легко согласятся с тем, что истинная в себе конечная цель не должна достигаться посредством обмана. Если в том или другом случае обман способствует достижению цели, то лишь в очень ограниченной мере, а верным средством для достижения цели он не может считаться и здесь. Ибо средство должно соответствовать достоинству цели; не видимость и обман — только правда рождает правду. Так и наука должна рассматривать подлинные интересы духа в свете истинного хода действительности и согласно истинной форме представления о нем.
В этой связи может возникнуть иллюзия, будто искусство недостойно научного рассмотрения, так как оно остается приятной игрой и, даже преследуя более серьезные цели, противоречит самой природе этих целей. В общем, назначение его чисто служебное — как в серьезном, так и в игре; мало того, жизненный элемент искусства и те средства, которыми оно пользуется в своем воздействии на людей, — это видимость и обман.
Во-вторых, еще легче представить себе, что искусство — хотя и доступное философской мысли — не является все же подходящим предметом для научного исследования в собственном смысле слова. Ибо красота в искусстве обращается к чувству, ощущению, созерцанию, воображению; у нее другая область, чем у мысли, и постижение художественной деятельности и ее продуктов требует иного органа, отличного от научного мышления. Далее, красота в искусстве доставляет нам наслаждение именно свободным характером творчества и образных форм. Создавая произведения искусства или созерцая их, мы как бы далеки от всяких оков, налагаемых правилами. Устав от строгой силы законов и мрачной сосредоточенности мысли, мы ищем покоя и свежести жизни в художественных образах; в противовес царству теней, где правит идея, мы обращаемся к «радостной, полнокровной действительности.
Наконец, источником художественных произведений является свободная деятельность фантазии, которая в создании своих воображаемых образов еще более свободна, чем сама природа. Искусство владеет не только всем богатством естественных форм, сияющих своим красочным многообразием. Оно идет еще дальше и черпает из творческой фантазии, неистощимой в своих собственных созданиях. Перед лицом неизмеримого богатства фантазии и ее свободных произведений мысль как бы теряет мужество и готова отказаться от своей претензии полностью уяснить себе эти образы фантазии, произнести свой приговор над ними и подвести их под всеобщие формулы.
Что же касается науки, то по своей форме, как полагают, она связана с абстрактным мышлением, отвлекающим нас от массы подробностей. Поэтому наука, с одной стороны, исключает воображение, всегда несущее на себе печать случайности и произвола, то есть исключает орган художественной деятельности и художественного наслаждения. С другой стороны, если согласиться с тем, что искусство должно оживить черствую сухость понятия, дополнить его бесцветные абстракции действительной жизнью и примирить понятие с действительностью, покончив с этим разладом, то анализ искусства с точки зрения одной лишь мысли вновь устранит, уничтожит это созданное искусством средство взаимного дополнения и вернет понятие к его бескровной простоте и призрачной абстрактности.
Далее, по своему содержанию наука занимается чем-то в самом себе необходимым. А так как эстетика оставляет в стороне красоту природы, то может показаться, что в этом отношении мы не только ничего не выиграли, но, скорее, даже отдалились от необходимого. Ибо слово «природа» уже само по себе вызывает в нас представление о необходимости и закономерности, то есть об отношениях, более подходящих для научного анализа, доступных ему. Что же касается духа вообще и особенно фантазии, то по сравнению с природой здесь представляется более обычным явлением произвол и отсутствие любого закона, другими словами — то, что ускользает от всякого научного обоснования.
Следовательно, во всех этих отношениях, как по источнику своему, так и по своему влиянию и границам, искусство кажется чем-то обособленным от науки, а не благодарной почвой для ее применения. Художественное творчество как бы противится регулированию со стороны мысли, и можно подумать, что этот предмет не отвечает требованиям научного анализа в собственном смысле слова.
Такие (и другие в том же роде) сомнения в возможности подлинно научной трактовки художественного творчества имеют своим началом обыденные представления, взгляды и домыслы, подробным развитием которых можно досыта насладиться в старых, особенно французских, сочинениях о прекрасном и разных художествах. Факты, приведенные в таких сочинениях, отчасти справедливы, а соображения, высказанные по этому поводу, также с первого взгляда похожи на правду. Справедливо, например, что формы прекрасного столь же многообразны, как сама распространенность явления красоты, которое мы встречаем повсюду. При желании из этих фактов можно сделать вывод о существовании в человеческой природе общего всем людям инстинкта прекрасного, а затем прийти к заключению, что не может быть никаких всеобщих законов красоты и вкуса, так как представления о прекрасном бесконечно многообразны и, следовательно, носят частный характер.
Прежде чем от общих рассуждений перейти к самому предмету, мы должны кратко, в предварительном порядке отвести возможные здесь критические доводы и сомнения.
Прежде всего коснемся вопроса о том, достойно ли художественное творчество научного анализа. Разумеется, искусством можно пользоваться и для легкой игры, оно может служить источником забавы и развлечения, может украшать обстановку, в которой живет человек, делать более (привлекательной внешнюю сторону жизни и выделять другие предметы, украшая их. На этом пути искусство действительно является не самостоятельным, не свободным, а служебным искусством. Мы же хотим говорить об искусстве свободном как с точки зрения цели, так и с точки зрения средств для ее достижения. Не одно лишь искусство может служить чужеродным целям в качестве побочного средства — это свойство оно разделяет с мыслью. Ведь и науку в качестве служебного рассудка можно применять для достижения ограниченных целей и случайных средств, и тогда она не сама определяет свое назначение, а получает его от других предметов и обстоятельств. Но, освобождаясь от этой подчиненной роли, мысль, свободная и самостоятельная, восходит к истине, в сфере которой она становится независимой и наполняется только своими собственными целями.
Лишь в этой свободе художественное творчество впервые становится подлинным искусством, и оно лишь тогда разрешает свою высшую задачу, когда вступает в один общий круг с религией и философией и является только одним из способов осознания и выражения божественного, глубочайших человеческих интересов, всеобъемлющих истин духа. В произведения искусства народы вложили свои самые содержательные внутренние созерцания и представления, искусство часто служит ключом, а у некоторых народов единственным ключом, для понимания их мудрости и религии. Такое назначение искусство имеет наравне с религией и философией, однако своеобразие его заключается в том, что даже самые возвышенные предметы оно воплощает в чувственной форме, делая их ближе к природе и характеру ее проявления, к ощущениям и чувствованиям. Проникая в глубину сверхчувственного мира, мысль сначала противопоставляет его непосредственному сознанию и наличному ощущению как нечто потустороннее; именно свобода мыслящего познания высвобождается из-под власти посюстороннего, носящего название чувственной действительности и конечности. Но этот разрыв с посюсторонним, эту рану, которую дух наносит себе в своем поступательном движении, он сам же и лечит; он порождает из самого себя произведения искусства как первое посредствующее звено, примиряющее явления только внешние, чувственные, преходящие с чистой мыслью, природу и конечную действительность с бесконечной свободой постигающего мышления.
Далее, что касается утверждения, будто стихия искусства есть нечто недостойное, представляет собой видимость и обман, то это возражение было бы, несомненно, правильно при допущении, что видимость есть нечто, не имеющее права на существование. Однако сама видимость существенна для сущности. Истина не существовала бы, если бы она не становилась видимой и не являлась бы там, если бы она не существовала для кого-то, как для самой себя, так и для духа вообще. Предметом упрека можно сделать не вообще видимость, а лишь особый характер той видимости, посредством которой искусство сообщает действительность истинному внутри самого себя содержанию.
Если видимость, посредством которой искусство осуществляет свои создания, мы определим как обман, то этот упрек имеет смысл лишь при сравнении произведений искусства с внешним миром явлений и их непосредственной материальностью, а также при сравнении с нашим собственным ощущаемым миром, то есть с внутренним чувственным миром. В нашей эмпирической жизни мы привыкли давать этим обоим мирам название действительности, реальности та истины в противоположность искусству, которому якобы не хватает такой реальности и истинности. Но как раз вся эта сфера внутреннего и внешнего эмпирического мира не является миром истинной действительности, а в более строгом смысле, чем искусство, может быть названа голой видимостью и жестоким обманом. Лишь по ту сторону непосредственности ощущения и внешних предметов мы найдем подлинную действительность. Ибо истинно действительным является лишь сущее в себе и для себя, субстанциальное начало природы и духа. Принимая форму наличного бытия, оно остается, однако, в этом бытии сущим в себе и для себя и лишь таким образом поистине действительно.
Господство этих всеобщих сил как раз и обнаруживается и раскрывается искусством. Правда, сущность проявляется также и в обычном внутреннем и внешнем мире. Однако здесь она обнаруживается в виде хаоса беспорядочных случайностей, будучи искажена непосредственностью чувственной стихии и произвольными чертами состояний, событий, характеров и т. д. Искусство освобождает истинное содержание явлений от видимости и обмана, присущих этому дурному, преходящему миру, и сообщает ему высшую, порожденную духом действительность. Таким образом, искусство не только не представляет собой голой видимости, но мы должны признать за его произведениями более высокую реальность и более истинное существование, чем за обыденной действительностью.
Изображения, даваемые искусством, нельзя назвать обманчивой видимостью и по сравнению с якобы более истинными изображениями историографии. Историография также имеет элементом своих изображений не непосредственное существование, а его духовную видимость. Кроме того, ее содержание обременено случайными особенностями действительности, ее событий, перипетий и индивидуальностей, тогда как художественное произведение показывает нам властвующие в истории вечные силы без побочных черт непосредственно чувственного существования и его бессодержательной видимости.
Если способ, каким являются нам художественные образы, называют обманом по сравнению с философской мыслью, с религиозными и нравственными принципами, то это верно постольку, поскольку форма, в которой проявляется содержание в области мысли, несомненно представляет собой самую истинную реальность. Однако по сравнению с видимостью историографии и чувственного непосредственного существования видимость искусства обладает тем преимуществом, что сама выводит нас за пределы, указывает на нечто духовное, которое благодаря ей должно стать предметом нашего представления. Напротив, непосредственное явление выдает само себя не за обманчивое, а за действительное и истинное, тогда как на самом деле непосредственно чувственное лишь затемняет и скрывает истину. Жесткая кора природы и мира повседневной жизни более затрудняет духу проникновение в идею, чем произведение искусства.
Однако, отводя искусству такое высокое место, мы должны вспомнить и о том, что искусство ни по своей форме, ни по своему содержанию не составляет высшего и абсолютного способа осознания духом своих истинных интересов. Вследствие своей формы искусство ограничено также и определенным содержанием. Лишь определенный круг и определенная ступень истины могут найти свое воплощение в форме художественного произведения. Для того чтобы данная истина могла стать подлинным содержанием искусства, требуется, чтобы в ее собственном определении заключалась возможность адекватного перехода в форму чувственности. Такого рода истиной были, например, греческие боги. В противоположность этому существует более глубокое понимание истины, когда она уже не является столь родственной и дружественной чувственности, чтобы чувственный материал мог принять ее в себя и дать ей соответственное выражение. Таково, например, христианское понимание истины; дух нашего современного мира, точнее говоря, дух нашей религии и нашей основанной на разуме культуры, поднялся, по-видимому, выше той ступени, на которой искусство представляет собой высшую форму осознания абсолютного.
Своеобразный характер художественного творчества и его созданий уже не дает больше полного удовлетворения нашей высшей потребности. Мы вышли из того периода, когда можно было обожествлять произведения искусства и поклоняться им, как богам. Впечатление, которое они теперь производят на нас, носит более рассудительный характер: чувства и мысли, вызываемые ими в нас, нуждаются еще в высшей проверке и подтверждении, получаемом из других источников. Мысль и рефлексия обогнали художественное творчество. Если кому нравится сетовать и порицать такое положение вещей, то он может считать это явление признаком порчи и приписывать его преобладанию в наше время страстей и эгоистических интересов, отпугивающих как требуемое искусством серьезное отношение, так и доставляемую им радость. Он может обвинить в этом тяжелые условия нашего времени, запутанное состояние гражданской и политической жизни, не позволяющее, по его мнению, душе, находящейся в плену у мелких интересов, освободиться от них и подняться к высшим целям искусства. По его мнению, сам ум человека поставлен на службу этим тяжелым условиям и мелким интересам дня; сам интеллект всецело предался наукам, полезным лишь для достижения подобного рода практических целей, впал в соблазн и обрек себя на добровольное изгнание в эту безотрадную пустыню.
Как бы ни обстояло дело, искусство теперь уже не доставляет того духовного удовлетворения, которого искали в нем прежние эпохи и народы и которое они находили лишь в нем. Это удовлетворение, по крайней мере со стороны религии, было теснейшим образом связано с искусством. Прошли прекрасные дни греческого искусства и золотое время позднего средневековья. Наша современная, основанная на рефлексии культура делает для нас потребностью придерживаться общих точек зрения как по отношению к воле, так и по отношению к суждению и регулировать наши отдельные мысли и поступки согласно этим точкам зрения. Общие формы, законы, обязанности, права, максимы определяют наше поведение и управляют нашей жизнью. Интерес же к искусству и художественное творчество требуют такой жизненности, когда всеобщее существует не в качестве закона и максимы, а проявляется как нечто тождественное с душевными настроениями и эмоциями, и когда фантазия содержит в себе всеобщее и разумное в единстве с конкретным чувственным явлением.
Поэтому наше время по своему общему состоянию неблагоприятно для искусства. Сам художник не просто заражен громко звучащим вокруг него голосом рефлексии, общей привычкой рассудочно судить об искусстве, побуждающими его вносить больше мыслей в свои работы, но вся духовная культура нашего времени носит такой характер, что художник находится внутри этого рефлектирующего мира и его отношений, будучи не в состоянии ни абстрагироваться от него усилием воли и принятием решения, ни достигнуть искусственно уединения, замещающего потерянное с помощью особого воспитания и удаления от условий современной жизни.
Во всех этих отношениях искусство со стороны его высших возможностей остается для нас чем-то отошедшим в прошлое. Оно потеряло для нас характер подлинной истинности и жизненности, перестало отстаивать в мире действительности свою былую необходимость и не занимает в нем своего прежнего высокого положения, а, скорее, перенесено в мир наших представлений. Теперь художественное произведение сразу вызывает в нас не только непосредственное удовольствие, но и оценку, так как мы подвергаем суду нашей мысли его содержание, средства изображения и соответствие или несоответствие обоих друг другу. Наука об искусстве является поэтому в наше время еще более настоятельной потребностью, чем в те эпохи, когда искусство уже само по себе доставляло полное удовлетворение. Искусство приглашает нас мысленно рассмотреть его, но не для того чтобы оживить художественное творчество, а чтобы научно познать, что такое искусство.
Желая последовать этому приглашению, мы встречаемся с сомнением, которого уже коснулись выше. Если даже допускают, что искусство вообще является подходящим предметом философской рефлексии, то сомневаются, является ли оно таковым для систематического научного изучения. В этом возражении содержится прежде всего ложное представление, будто философское рассмотрение может быть и ненаучным. Относительно этого пункта я должен лишь вкратце сказать, что, каковы бы ни были представления других о философии и философствовании, я считаю, что философствование совершенно неотделимо от научности. Ибо философия должна рассматривать предмет со стороны его необходимости, и притом не только субъективной необходимости, внешнего порядка, классификации и т. д., но она должна раскрыть и доказать этот предмет согласно необходимости его собственной внутренней природы. Лишь это выявление и составляет научный характер всякого исследования. Но, поскольку объективная необходимость предмета лежит в его логико-метафизической природе, можно и даже должно при изолированном изучении искусства несколько отступить от научной строгости, так как в искусстве имеется много предпосылок, касающихся частью самого содержания, частью его материала и стихии, в силу которых искусство всегда граничит со случайностью. Поэтому мы должны выдвигать аспект необходимости лишь в отношении существенного внутреннего развития его содержания и выразительных средств.
Что же касается того возражения, будто художественные произведения не поддаются освещению научной мысли, так как имеют своим источником беспорядочную фантазию и настроение и, необозримые по числу и разнообразию, действуют только на чувство и воображение, то это затруднение представляется и теперь еще не утратившим своей силы. Ибо красота в искусстве выступает в форме, которая явно противоположна мысли, и, чтобы действовать на свой лад, мысль вынуждена разрушить эту форму. Это представление связано с мнением, будто постижение в понятиях искажает и умерщвляет внешнюю реальность, жизнь природы и духа, и лишь отдаляет ее от нас, вместо того чтобы приблизить эту реальность посредством мышления, соответствующего понятию. Человек будто бы благодаря мышлению как средству достижения жизни сам лишает себя достижения этой цели. Здесь не место говорить об этом исчерпывающим образом, а мы должны лишь указать ту точку зрения, исходя из которой можно было бы устранить это затруднение или, иначе говоря, эту невозможность, это несоответствие.
Прежде всего с нами согласятся, что дух способен рассматривать сам себя, обладать сознанием, и именно мысленным сознанием о самом себе и обо всем том, что из него проистекает.
Ибо мышление составляет сокровеннейшую, существенную природу духа. Если дух подлинно присутствует в этом мысленном сознании себя и своих созданий, то, сколько бы ни было в них свободы и произвола, он все-таки ведет себя соответственно своей существенной природе. Искусство же и его произведения, возникнув из духа и будучи созданы им, сами носят духовный характер, хотя художественное изображение и вбирает в себя чувственную видимость, одухотворяя чувственный материал. В этом отношении искусство ближе к духу и его мышлению, чем внешняя не одухотворенная природа; в художественных произведениях он имеет дело лишь со своим достоянием.
Хотя создания искусства представляют собой не мысль и понятие, а развитие понятия из самого себя, его переход в чуждую ему чувственную сферу, все же сила мыслящего духа заключается в том, что он постигает самого себя не только в собственно своей форме, в мышлении, но узнает себя и в своем внешнем и отчужденном состоянии, в чувстве и чувственности, постигает себя в своем инобытии, превращая отчужденное в мысли и тем возвращаясь к себе. Занимаясь своим инобытием, мыслящий дух не изменяет этим себе, не забывает и не отрекается от себя; он и не столь бессилен, чтобы не постичь то, что отлично от него, но он постигает и себя и свою противоположность. Ибо понятие есть всеобщее, сохраняющееся в своих обособлениях, возвышающееся как над собой, так и над своим инобытием. Оно является силой и деятельностью, способной вновь устранить то отчуждение, к которому оно приходит в своем поступательном движении. Таким образом, хотя в художественном произведении мысль и отчуждается от самой себя, оно также принадлежит области мышления в понятиях, и дух, делая это произведение предметом научного изучения, удовлетворяет этим лишь потребность своей собственной природы. Так как сущностью и понятием духа является мышление, то он испытывает полное удовлетворение лишь после того, как постигнет мыслью все продукты своей деятельности и таким образом сделает их действительно своими. Искусство же, как мы это более определенно увидим дальше, не является высшей формой духа, но получает свое подлинное подтверждение лишь в науке.
Точно так же нет в искусстве такого беспорядочного произвола, вследствие которого оно не поддавалось бы философскому освещению. Мы уже указали на то, что истинной задачей искусства является осознание высших интересов духа. Из этого сразу же следует, что, поскольку речь идет о содержании, художественное творчество не может отдаваться безудержной фантазии;
эти духовные интересы устанавливают определенные точки опоры для его содержания, сколь многообразными и неисчерпаемыми ни были бы его формы и образы. То же касается и самих форм они также не предоставлены полному произволу. Не всякое формообразование способно выразить и воплотить эти интересы, воспринять их в себя и передать их, но определенное содержание определяет также и соответствующую ему форму.
И с этой стороны мы можем мысленно ориентироваться в кажущихся необозримыми многочисленных художественных произведениях и формах.
Таким образом, мы указали здесь содержание нашей науки, изложением которого мы намерены ограничиться, и убедились, что как искусство достойно стать предметом философского исследования, так и философское исследование способно понять сущность искусства.